07.09.2025 · Источник: https://zoom.film · Автор: Родион Чемонин
Писатель, сценарист и режиссёр - война, мир и пара сухариков
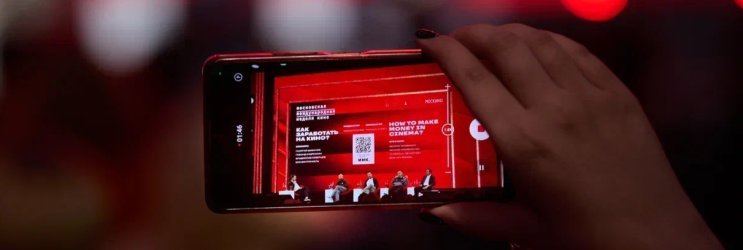
В конце августа прошла Московская международная неделя кино, словно бы созданная для скандала с Вуди Алленом, но не только. В рамках недели два дня было посвящено деловой программе. В самом большом помещении TAU Кинозавода «Москино» чуть ли не поселились студенты киношкол, актёры, режиссёры, продюсеры со всего мира. Одной из наиболее располагающих к размышлению стала панель «Экранизировать нельзя придумывать». На ней в одном зале собрались сценаристы, режиссёры, издатели, авторы комиксов и другие творцы, для которых понятие «экранизация» - не просто слово. Вместе они попробовали найти ответы на вопросы, как превратить известную историю в оригинальный экранный проект, что отличает успешную адаптацию от иллюстрации, почему классика снова в моде и как на неё реагирует современная аудитория и какую свободу может позволить себе автор при работе с известным сюжетом?
Александр Цыпкин, модератор встречи (писатель, сценарист, драматург): Как вы думаете, с чем связано то, что возник высокий спрос на экранизации? Почему классика снова в моде и как на неё реагирует современная аудитория?
Александр Котт (режиссёр, преподаватель): Я считаю, что появление такого огромного количества заявок на экранизацию на сегодняшний день - это из-за отсутствия идей. Все знают, что кино - это ни разу не литература; при попытке обратиться к классическим произведениям, проверенным временем, получается либо иллюстрация текста, а это вообще-то бессмысленно, либо новое произведение, тогда зачем, собственно, первоисточник? Поэтому я считаю, что экранизация убивает литературу и не спасает кино.
Александр Цыпкин: Ты ещё таким голосом похоронным сказал, что я предлагаю, давайте заканчивать и разойдёмся.
Артём Габрелянов (генеральный директор киностудии «Bubble Studios»): Такое ощущение, что это Стивен Кинг сейчас встал, которому не нравится, как его экранизируют, и вышел из зала.
Настя Волкова (сценарист, продюсер): На самом деле, мне как сценаристу очень хочется понять, почему все хотят снимать экранизации, потому что мне бы хотелось писать свои идеи, но я согласна с Александром Хантом, который считает, что для этого нужны возможности. Нужно время, финансы и прочее для того, чтобы ты мог придумать новый полноценный фантастический мир. Вот поэтому, конечно, мы обращаемся к книгам.
Александр Цыпкин: Всё понятно. Нет людей, нет денег. Так, ну теперь, Арина, ты - представитель этих рабовладельцев, кому принадлежат писатели. Вы пытаетесь каким-то образом выжить, чтобы они не ушли от вас очень быстро?
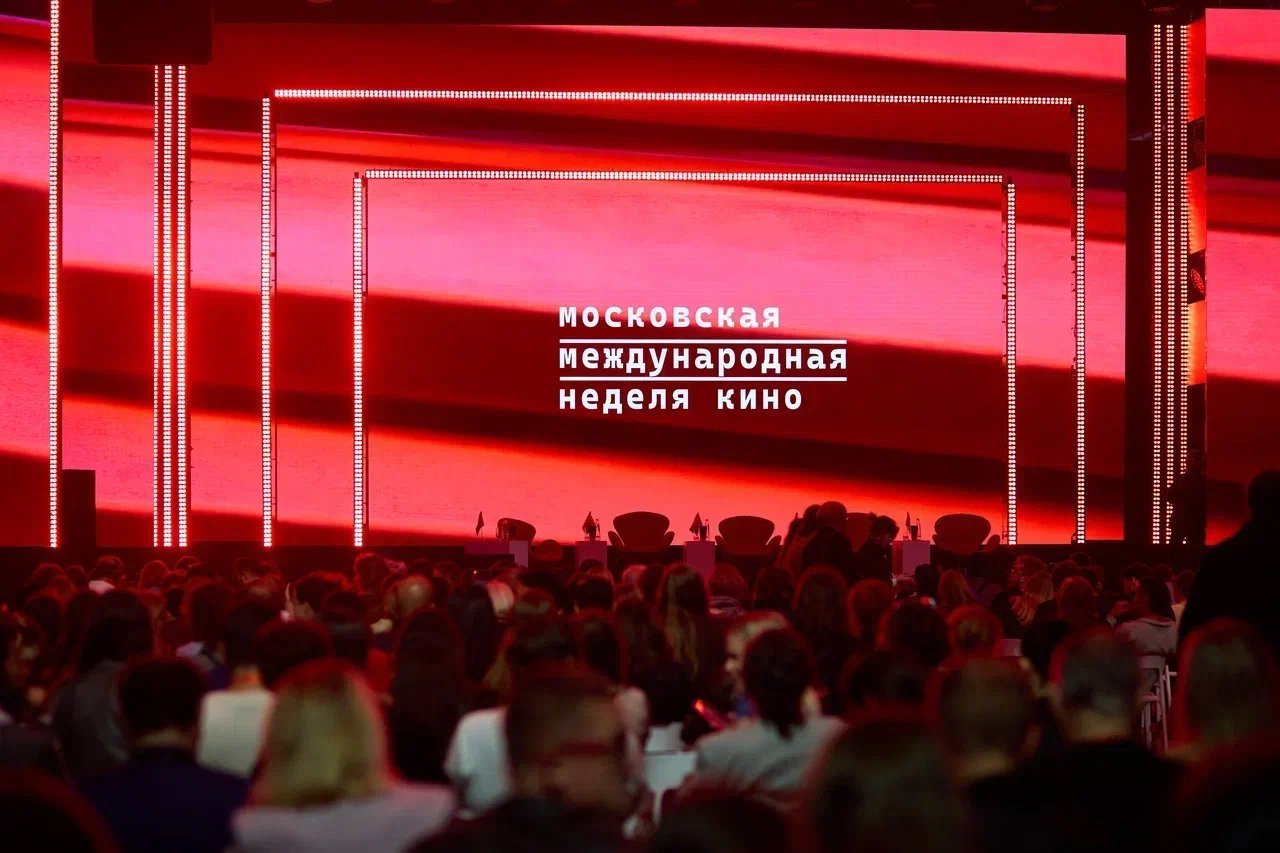
Арина Кузнецова (руководитель сценарного направления Издательского Холдинга ЭКСМО-АСТ): Точно. Что касается маркетинговой базы, то экранизации обладают ей в полной мере. Они приводят больше зрителей в кинотеатры. Мы можем просчитать примерное количество зрителей, хотя бы какая аудитория, потестировать, пойдёт (предварительно) зритель в кино или не пойдёт, оценить авторские соцсети. Но, к сожалению, оценить сценарий в цифрах, даже если он очень хороший, мы не можем, мы не знаем, сколько человек реально придёт в кино. Другая причина, почему у нас закупают так много экранизаций, на мой взгляд, это материал и его глубинная франшизная проработка. Это целые вселенные, а значит будет чем наполнить истории и для будущей франшизы.
Александр Цыпкин: А как в «Эксмо» всё строится? Вот приходит писатель, никому не известный, вы покупаете права на его роман. Вы сразу забираете у него права на экранизацию?
Арина Кузнецова: Да, стараемся. Не все отдают. Но у нас есть свои выходы в такой ситуации. Мы не только платим за права на экранизацию, но и иногда платим проценты с проката картин. Не так много, хотелось бы больше. Также мы делимся с авторами всеми видами доходов ещё на этапе мёрчандайзинга. Если он объёмный, то мы закладываем авторский процент.

Александр Цыпкин: А есть какая-нибудь база того, что вы хотели бы экранизировать? Условно, «Кинопоиск» пришёл - вжик! - и сказал: «Можно всех посмотреть»?
Арина Кузнецова: У нас есть целое сценарное направление, которое существует уже три или четыре года. Мы знаем, какая студия что ищет, регулярно рассылаем подборку по направлениям, по топовым авторам, по жанрам. Или, как с Пелевиным, издательство знает, какие книги выйдут через год или раньше, или позже, а в открытом рынке об этом информации нет. Но за этим можно прийти к нам, получить приоритет на права, когда книга выйдет.
Александр Цыпкин: Каждый раз, когда говорят, что русское кино - прекрасное, только никто в мире его не смотрит, я тут же достаю из широких штанин цифры «Майора Грома»: первые места на Netflix, несколько недель в таких-то странах, столько то продержался и так далее. Но ведь комиксы, казалось бы, не совсем российский культурный код. Насколько предполагалось, что это так выстрелит? Это писалось сразу же под экранизацию?
Артём Габрелянов: Это просто вопрос того, как ты мыслишь, как ты представляешь себе историю. Скорее всего, все комиксы так или иначе заточены под экранизации, потому что графические романы по сути - это раскадровка будущего фильма. У Зака Снайдера, допустим, «Хранители» - это просто кадр в кадр всё снято. Комикс - это очень удобная книжка для экранизации.

Александр Цыпкин: Я недавно сталкивался с поставкой своих рассказов на китайский рынок, они сразу говорят: давай мы комикс из этого сделаем! Я с тех пор думаю об этом. Насколько комиксы могут сделать нашу российскую индустрию международной? Комиксами проще достучаться?
Артём Габрелянов: Я думаю, это отличный вариант для того, чтобы рассказать о том, какие у нас есть классные авторы, истории, идеи. Превратить литературу в комиксы гораздо легче, чем дублировать кино. Все мы знаем, что «Маша и Медведь» вышел в массе стран, но они сталкиваются с большой проблемой, потому что надо переозавучиваться. Перевод комиксов гораздо быстрее и проще, и комиксы читают по всему миру, в Европе, в Америке, в Японии, в Китае. Многие считают, что комиксы - это жанр. Но это не так. Комикс — это формат подачи истории, как кино, как спектакль, как аудиопроизведение, как песня. То есть это контейнер, в который закладываешь историю.

Александр Цыпкин: Миша, ты можешь пару слов сказать про сотрудничество с «Bubble»? Ну и что на «Кинопоиске» из экранизаций вышло за последнее время, и что будет, и насколько вы довольны результатами?
Михаил Китаев (продюсер, «Плюс Студия», «BUBBLE Studios»): Мы всегда в фокусе внимания держали проекты, которые основаны на книгах. У нас недавно вышли два крупных проекта на «Кинопоиске». Это «Преступление и наказание» и «Этерна». «Этерна» основана на цикле романов Веры Камши. В общей продаже этих книг тираж составил несколько миллионов копий. Это довольно большая аудитория, которая проявляла и проявляет интерес к выбору.
Александр Цыпкин: А вы давно на неё обратили внимание?
Михаил Китаев: Там была другая история. К нам пришла продакшн-компания, которая купила права. Они сделали первый заход, сделали первую пилотную серию, она вышла на «Кинопоиске», её посмотрело много людей. Мы сделали свои выводы, что хорошо получилось, а что - нет, и выполнили перезапуск всего этого проекта. Что касается «Bubble». На сегодняшний момент у нас уже в копилке есть три полномтеражных фильма про Грома. Это очень классное кино, которое просто для какой-то части аудитории не подошло, но на самом деле офигенное. И сейчас мы находимся в глубокой стадии подготовки нашего проекта (как раз с нами Саша Хант) - это сериал «Фурия», экранизация комиксов «Bubble».

Александр Цыпкин: Как лучше: когда вам писатель отдал права и вы делаете всё, что хотите, или когда он говорит, нет, я, пожалуй, тоже поучаствую и просто так без меня вы не снимете?
Михаил Китаев: Хороший вопрос. Не каждый раз писатель и сценарист - это одно и то же. Поэтому обычно вопрос так и не стоит. Если говорить о будущих проектах, то у нас в глубоком девелопменте проект «Трансгуманизм» Пелевина. Кто-то сомневается в существовании этого автора, но мы знаем, что существует. Он не участвует как сценарист. Это это не прямая экранизация, это адаптация «Трансгуманизма». Мы подготовили сценарий, передали ему через агента, с которым мы и общаемся, он передаёт нам какие-то фидбэки.
Александр Цыпкин: Насколько у нас есть возможность через комиксы передать российский менталитет, культуру, представить через экранизацию комиксов, раз через какие-то другие вещи у нас не получается?
Александр Хант (кинорежиссёр, сценарист, продюсер): Почему мы очень легко пересматриваем советские фильмы? Потому что действует подключение к персонажу, когда понимаешь, что ты с ним проживаешь этот момент, его историю. Если говорить про Фурию, как через неё зрителей дотащить до конца сериала и заставить переживать, то для меня эта история связана с семьёй. Так получилось, что мой первый фильм связан с взаимоотношениями внутри семьи. Если кто видел «Витьку Чеснока», то там детдомовский парень обретает отца. И я вырос без отца. И второй мой фильм про подростков, которые сбегают из семьи. И так получается, что история Фурии - это история маленькой девочки, у которой в детстве убили отца. И вся её дорога - это желание отомстить. Это становится её суперсилой и, с другой стороны, самым слабым местом. Мне кажется, именно здесь та почва, где можно рассказать историю не только про супергероев, а историю про то, что происходит и у каждого из нас. И заложить какой-то важный посыл, гуманистический, потому что ценность семьи сегодня должна каким-то образом через экран транслироваться. У меня у самого растёт дочь, и мне бы хотелось, чтобы она посмотрела сериал, и для себя что-то ценное из этой истории вынесла. Вот такая идея, такой посыл, который хотелось бы в этот сериал вложить.
Александр Цыпкин: Проще экранизировать мёртвого писателя или живого?
Александр Хант: Ну, проще мёртвого, безусловно. Он не будет сопротивляться особо.
Александр Цыпкин: У тебя есть какой-то роман или произведение, которые ты хотел бы прокомментировать?
Александр Хант: А я вот, собственно, сейчас доделываю свой третий фильм, который называется «Джекпот». Это по роману Кирилла Рябова, которого я очень люблю во всех смыслах, разрешённых законом. Мы снимали его во Владивостоке. Фильм почти готов, и, надеюсь, он всех вас обрадует.

Александр Цыпкин: «Мастера и Маргарита» Локшина и Каниора: можно было так переделать или нельзя? Насколько мы имеем право кардинально менять литературную основу ради художественных своих задач, ради посыла?
Александр Котт: Я считаю, что мы обязаны. Да простят меня умные люди, но в фильме «Мастер и Маргарита» вышло гораздо интереснее и лучше, чем в первоисточнике. Это реальное кино, я понимаю про что оно. Я, может, слишком рано познал роман в школе, потому что все читали, и я прочёл, но такого впечатления от книги у меня не было, чем от фильма. Были и другие примеры. Предположим, я прочёл Бёрджеса «Заводной апельсин», и он меня прямо потряс. А потом я посмотрел экранизацию Кубрика. И это совершенно другое кино. Это два разных произведения. Поэтому я считаю, что иллюстрировать первоисточник - это преступление. Литература и так самостоятельно существует, без иллюстрации себя.
Я просто пытаюсь представить, что Достоевский такой пишет с прицелом на то, что его экранизируют через три века. Сама литература, первоисточник, это невероятное искусство. Когда ты читаешь книгу, у тебя в голове рождаются образы, ты не можешь заснуть, ты как бы придумываешь своё кино - и это одна история. А другая - это когда ты видишь эту книгу на экране, где всё тебе подают на тарелочке, всё понятно, здесь нет эмоций. Это два разных вида искусства.
Я экранизировал «Печорина» (имеется в виду сериал «Герой нашего времени», 2006. - Прим. ред.) , и скажу вам по секрету, это была катастрофа, потому что я думал, что Лермонтов - это некий богом избранный писатель. Я трясся за каждую реплику, думая, что это святое. Я пытался сделать оттиск, а не то, что... Это было ужасно. При этом, я понимаю, некую пользу от всего происходящего, потому что там у меня ребёнок вместе с классом пошёл и посмотрел «Онегина» Сарика Андреасяна. Ничего личного, слава богу, потому что они хоть так посмотрели, про что это произведение. Но я не считаю это экранизацией.
Кто знает, что «Семнадцать мгновений весны» - это сначала был роман? Он за 5-7 лет до сериала был написан, но никто его не читал. Он был написан не для того, чтобы его экранизировать. Я сейчас в шоке, может быть, приятном или неприятном. Но все бросились снимать сейчас сказки. Прости господи, уже выкупили «38 попугаев». Считается, что если это старая советская сказка, то, значит, будет коммерческий успех. Скоро будет два, три, четыре, пять успешных фильмов - и потом провал полный. Хотя «Чебурашка» - отличное кино, я сам был в зале и со всеми зрителями пел эту песню, это всё было прекрасно, но этот фильм стал триггером. Появилась тема, все на неё набросились, и сейчас ищут новую нишу. Поэтому я за экранизацию, но против иллюстрации. Те, кто пишет, прицеливаясь на экранизацию, должны называть своё произведение киноповестью, как угодно, но не сценарием, не фильмом. Потому что литература – это божественная история, которая была… ну, всё.
Александр Цыпкин: Я правильно понимаю, ты рекомендуешь авторам, писателям не держаться за то, чтобы их творения реализовать так, как они его писали? То есть отдавать право видения режиссёрам.
Александр Котт: Да, отдавать его на съедение. Я про Бёрджеса расскажу. Он написал «Заводной апельсин», когда ему подтвердили заболевание раком и сказали, что ему осталось жить всего ничего, и он написал книгу за два-три месяца, чтобы, когда его не станет уже, хоть что-то от него осталось. И когда он написал, он выздоровел. Это невероятная история. Когда я это узнал, меня просто накрыло, поэтому что надо писать для себя. Я понимаю эту маркетинговую историю, но произведение должно возбуждать, должно как-то трясти человека, а не мечтать увидеть, как ты «пишешь литературу на экране».
Артём Габрелянов: А можно вклиниться? Вот Александр говорил про «Семнадцать мгновений весны», а я хочу привести гораздо более вопиющий пример экранизации, который перевернул всё с ног на голову, — это «Место встречи изменить нельзя». Книга братьев Вайнеров «Эра милосердия». Кто читал её, тот знает, что она совсем другая, чем кино, с другой философией. Но и режиссёр, и Владимир Высоцкий, который потрясающе, конечно, передал роль Глеба Жеглова, поменяли философию истории совершенно. С плюса на минус. В книге говорилось, что наступает эра милосердия, все должны быть добрыми друг к другу, делать всё, руководствуясь высшей благой целью. А в сериале мы получили цитату «Вор должен сидеть в тюрьме». И это на многие годы предопределило вообще отношение людей к людям. Я считаю, что это вопиющий пример плохой экранизации, когда изначальную задумку очень сильно испорчена. Теперь все думают, что братья Вайнеры так и написали...
Настя Волкова: Мне кажется, что когда сценарист берет книгу, он сталкивается не только с чужим текстом, но и со своим эмоциональным откликом. Это является основой дальнейшей работы над адаптацией. Что нужно сделать, чтобы в итоге не получились пересказ и иллюстрация? Сценаристу нужно вдохнуть жизнь. Наверное, первое — это найти свою точку боли. Там, где болит у меня, там болит и у автора, чтобы войти с ним в диалог. Когда ты находишь эту точку боли, наверное, от этого уже можно приступить, что я могу работать над этим материалом.
Александр Цыпкин: Типично российская позиция - обязательно найти точку боли. Но не точку радости. Даже если комедию снимаешь - сначала найди, где болит. Если у русского сценариста не болит, то он вообще, считай, зря живёт. Иначе психологи без работы остануться. А скажи, пожалуйста, не ощущает ли себя сценарий как бы прокладкой между писателем и режиссёром? То есть получается, и текст не твой, и итог не твой.
Настя Волкова: Мне кажется, что всё-таки это дуэт. Сначала с автором книги, потом - с режиссёром. Ну, а иначе никак. Ты должен выстроить диалог. Не исходить из позиции «я такой классный, я сейчас все это придумаю лучше», не исходить из того, что передо мной сейчас святой текст, и я хочу его перенести, как он есть. Нет, обязательно нужно идти в диалог
#интервью #паблик-ток #индустрия
96